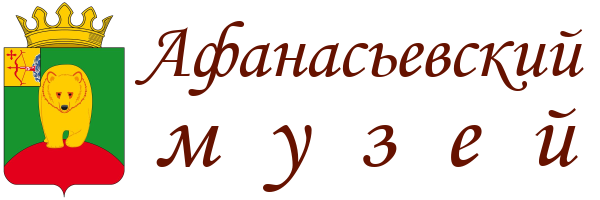«В лесах Прикамья».
Как это далеко. Это далеко не только от Москвы, но и от железной дороги... И мы едем... едем куда-то, в верховье Камы. Не на машине, а на лошадках. От лошадей давно перестал валить пар, и теперь они покрыты примерзшей пеной, идут шагом, устало, вразвалку: они прошли уже больше сорока километров, и по какой дороге! Дорога узкая с глубокими нырками, и стоит только коню свернуть в сторону, как он ложится на брюхо: снега тут в полтора-два метра. И леса, леса, леса... Сказочные леса. Тянутся высокие, густые ели, а из-под них, как бы норовя обогнать их, рвутся березы, ниже - осины, еще ниже перепутанный кустарник. II все это в снегу пышном и голубоватом. В такой лес заберешься, пройдешь с полкилометра и заплутаешься.
Нам сказали, что по этой дороге когда-то гнали в ссылку писателя Короленко. Вот по этой дороге - глухой, лесистой. Гнали за народную правду. А теперь там, в поселке за Камой, колхоз имени Короленко. И еще нам сказали, что скоро в столовой поменяют лошадей и можно будет погреться. Это очень хорошо. А то сорокаградусный мороз пробирает до костей.
Столовая. Видимо, какое-то село. Первое на пути. Надо полагать, что там уже собрались колхозники, значит мне придется выступить перед ними, хотя бы минут на двадцать...
Вот она столовая: огромный деревянный дом и под крышей вывеска «Столовая». А около масса подвод, груженных хлебом, возчики. Они и на воле, и в доме. Отогреваются, обедают. И дальше. Дальше еще сорок километров до села Бисерова — районного центра.
И снова леса, леса, леса, густые, сказочные, окутанные голубоватым снегом.
В какую даль, в какую глушь мы едем? И что там за люди! И что я им скажу? А мне ведь обязательно придется выступить перед ними. Да. Да. Надо что-то сказать. И я начинаю сочинять речь... Не складывается такая речь. Никак. А ведь речь-то надо сказать такую, чтобы она до сердца слушателей дошла...
Я поворачиваюсь к Петру Васильевичу Колосову, председателю окружной избирательной комиссии, и говорю:
— Что ж тут сказать-то, Петр Васильевич? Какой тут народ?
— Народ? Я, знаете ли, сам тут впервые. Глушь! Ну, вот и он утверждает «глушь». А ведь они будут голосовать за меня или против меня. Ведь, если я им скажу что-нибудь такое, как пустой ветер, они вычеркнут мою фамилию, и значит... Значит... И вот я напрягаюсь, подыскиваю слова... Речь складывается для колхозников — людей, которые вынесли на своих плечах гигантскую тяжесть войны. От этой тяжести иногда трещали плечи.
Наконец-то Бисерово. Оно раскинулось на пригорке — деревянное село. Перед селом равнина, заросшая кустарником, равнину разрезает Кама, а дальше виднеются все те же густые леса, леса, леса. Кони остановились у деревянного двухэтажного свежесрубленного здания. Навстречу нам идет, вернее — спешит, группа людей. Впереди всех человек лет под тридцать пять. У него тонкие черты лица, одет он в пальто, на ногах чесанки. Он почти бежит нам навстречу и улыбается.
- Секретарь райкома, Иван Иванович [Иван Иванович Козлов, первый секретарь Бисеровского райкома партии 1942-1948 гг.], — поясняет Петр Васильевич, выкидывая ногу из саней.
Секретарь райкома. Да где я его видел? Ага. Я таких же видел и на Украине, на Кубани, на Урале, под Москвой. Вот такие же энергичные, улыбчивые.
Подбежав к нам, Иван Иванович еще больше заулыбался, уже знакомя нас со своим активом — с предриком, с секретарями, заместителями, с какой-то девушкой, у которой глаза горят как фонари. Перезнакомив со всеми, он обратился к Петру Васильевичу:
- Нас. Вернее вас... Вернее, товарища Панферова, — и засмеялся. — Одним словом, Петр Васильевич, колхозники с утра ждут. Что будем делать?
Петр Васильевич, стряхивая снежную пыль с шубы, отвечает:
— Мне всякая агитация по закону запрещена. Я у вас гость.
— Мы в вашем распоряжении, Иван Иванович, — говорю я и тут же слышу звонкий, взволнованный женский голос:
— А в школу! В школу! Ребята ждут! Это та девушка с горящими глазами. Оказывается, она директор школы-семилетки. Она еще настолько молода, что совсем не походит на директора, и видимо, поэтому тут ее все зовут Шурой.
- Ну что ж. До колхоза-то далеко ли?
- Да нет, — отвечает Иван Иванович, — всего километров двадцать семь.
Это ему недалеко — двадцать семь километров!
Вот и школа. Это огромное, глаголем, крепко срубленное и основательно поставленное на землю здание. Кажется, школу рубили на веки вечные: стены плотные, сухие, звонкие — стукнешь кулаком по стеке, а она звенит! А ребята какие! Румянощекие, крепкие, руки у них крепкие, сильные, как лапы у львят. А какие они все любопытные — ребята... Вот один задает вопрос:
- При голосовании можно ставить свою фамилию?
- А тебе что? Ты ведь еще не голосуешь.
- Мама меня спрашивала.
Но тут не выдерживает и Петр Васильевич. Ему положено молчать, а он к ребятам:
— А есть ли среди вас отличники?
Ребята чуть помолчали. Но вот поднялась одна, другая рука, третья... И вырос лес рук. А те, кто не поднял руку, жмутся, прячутся за других... И вдруг они закричали:
— И мы будем отличниками! Вот увидите. Будем отличниками.
Батюшки, да где мы находимся? Вот ведь таких же ребят я видел всюду — под Москвой, в Поволжье, на Северном Кавказе, Украине. Такие же любопытные, такие же умные и такие же не по годам взрослые.
И опять лошадки понесли нас по снежной дороге. Тут уже нет глухой стены леса. Поля, перелески. Попадаются деревушки. Мы с Иваном Ивановичем сидим в одних санках. Он молчит, о чем-то напряженно и тревожно думает. А возчик - паренек лет четырнадцати — то и дело тычет в сторону кнутом, показывая на дерёвеньку:
- Город. А вот еще город. А вон еще город, — шутит он.
- А ты в городе-то был? — спрашиваю я его.
- Нет.
- Чего же говоришь «город»?
- А читал. Я семилетку окончил.
- Ох ты, — думаю я. — Человек почти со средним образованием, но ни разу еще не был в городе.
Но вон селение. Оно гораздо больше тех деревушек, мимо которых мы проехали. Иван Иванович почему-то взволнованно сообщает, что тут, в этом селе, нас ждут колхозники. Въезжаем в улицу... И вдруг из-за угла хаты выносится серый конь. В санках сидят двое. Один правит конем, другой держит в руках древко, а на древке развевается красное огромное полотнище. Конь рванулся вперед и помчался по улице, как вихрь. Вон он. Вон видна уже только его голова. Но знамя реет, реет, реет.
- Ну, не ждал! Ну, молодцы! Честное слово, молодцы, — уже совсем взволнованно произносит Иван Иванович. — Это они оповещают, что мы едем. Ну, молодцы! Честное слово.
И наш возчик-паренек натянул вожжи. И его конь рванулся вперед. Мелькают дома. Совсем престарелые старики, вышедшие за калитку, старухи, малые дети... И вот мы с Иваном Ивановичем, как бы чем-то ошарашенные, выбираемся из саней. Мы смотрим друг на друга, ничего не понимая. Так же ничего не понимая, смотрит на нас Петр Васильевич, предрика.
Около нардома огромная толпа колхозников. Но мы стушевались не потому, что увидели их. Нет. А вон впереди стоят старик и старуха. Через плечи у них старинные вязаные полотенца, в руках деревянные подносы, а на подносах хлеб, соль и брага. Что тут делать? Ведь это такой древний обычай. Мы уже все, кажется, видели, а вот тут... Может, кто подскажет? Но толпа затаенно молчит.
—Пейте! Пейте брагу, — шепчет Иван Иванович.
Я невольно снимаю шапку, беру стакан с брагой, поднимаю его высоко и со славами «За ваше здоровье, товарищи!» пью.
Пью и слышу, как все нарастает и нарастает буря аплодисментов. Она то оборвется, то снова, и с еще большей силой катится из толпы и обрушивается на нас.
Нардом забит колхозниками. Тут не сидят. Нет, стоят. И то коридор переполнен людьми.
Дверь открыта. И через дверь на улицу валит густой пар — человеческое дыхание. Сцена украшена знаменами, плакатами.
Я со сцены смотрю на лица людей. Я не смотрю ни на одежду, ни на обувь, ибо знаю: встречают по одежде, провожают по уму. А с трибуны выступают ораторы. Все они страшно волнуются. Вот выступил Сабуров — кузнец. Ему шестьдесят четыре года, но он такой сильный, что проживет еще столько же. И верно, когда он произнес: «Кую. В колхозе кую. Думаю, еще пятилеточку ковать буду». Из зала под общее одобрение кто-то кричит: «Ну, прокуешь еще пятилеточек шесть». И верно. Когда он кончил речь и протянул мне руку, я обнял его... И он обнял меня, обнял и так сжал, что у меня затрещали кости.
Наконец председательствующий предоставляет слово мне. Я тоже волнуюсь. Я страшно волнуюсь, как никогда. Странно. Пора бы уже привыкнуть: ведь это не то пятидесятое, не то шестидесятое выступление перед избирателями. Но волнуюсь. Пересилив волнение, говорю:
— Я за свою жизнь очень много выступал, товарищи. Во многих крупных городах страны, в колхозах, совхозах, на заводах, фабриках, на фронте, под пулями. Но никогда не волновался так, как вот сейчас. Я должен открыться перед вами. Когда я ехал сюда по пустынной дороге, то думал: ну, попаду в такую глушь... По залу прошелся легкий шорох и смех. — А вот сейчас смотрю на вас и вижу: все те же, как в Ростове, как на Урале, как в Москве... все те же чудесные, умные, советские глаза. — В зале наступила секундная тишина, и вдруг послышались рыдания.
Люди плакали от радости, сознавая, что они действительно умные, хорошие, советские люди.
По публикации «В лесах Прикамья» // Призыв. 1984, № 52.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии